начало
Когда происходит исповедь, можно ли сказать, что все мои грехи прощаются, или только те, которые я проговорил или продумал?
– Во-первых, грех прощается не потому, что ты его назвал, а потому что ты пожалел, что сделал, сказал, или подумал, или почувствовал что-то дурное. Назвать недостаточно, – надо пожалеть о том.
Мне рассказывали (конечно, это больше похоже на анекдот), как одна старушка все исповедовала один и тот же грех молодости. Священник ей сказал: Бабуся, ты мне уже двадцать раз исповедала это! А она говорит: Да, батюшка, но так сладко вспомнить!.. Можно ли сказать, что этот грех ей прощен? Да, давно Бог простил, а вместе с тем она этим грехом живет, самое большое удовольствие ее жизни – вспомнить то, что тогда случилось… Вот пример. Нельзя просто дать список всего гадкого, что ты сделал, и думать, что этого достаточно.
Кроме того, есть грехи ведомые и неведомые. Есть поступки, о которых я понимаю, что они грешны. А есть вещи, которые на самом деле плохи, но я еще не дорос до такого их понимания, не достаточно развился духовно, или опыт моей жизни меня не научил. Поэтому грехи такого неведения, где нет моей недоброй воли, Бог может простить. А в том, что я сделал сознательно, я должен раскаяться. Что значит раскаяться? Я должен, во-первых, понять, что это плохо. А во-вторых, перед собой поставить вопрос: готов ли я меняться, собираюсь ли я бороться с этим? Если я вообще этого не собираюсь, если понимаю, что это плохой поступок, плохое отношение к жизни, но мне всё равно; я знаю, и буду это продолжать, то как меня можно простить?
И о прощении, я думаю, можно сказать вот еще что. Мы всегда считаем, что простить – это забыть. Мы подходим к человеку и говорим: «Прости меня!» в надежде, что он уже никогда не вспомнит об этом. Но это не всегда полезно, так как иногда от того, что тебя простили, ты еще не переменился. И если тот, кто тебя простил, не будет следить, чтобы тебе не дать повода снова то же самое сделать, ты можешь поскользнуться.
У нас в приходе был случай, который меня чему-то научил. Была женщина-алкоголичка, пила отчаянно. Ее взяли в больницу, год лечили; она вылечилась, вернулась домой. В семье устроили праздник и поставили бутылку вина на стол. И от первого же стакана произошел срыв: она снова запила. Так вот, семья простила и забыла; а надо было простить – и не забывать, и не ставить ее в такое положение.
Прощение начинается не с момента, когда ты стал ангелочком и всё в тебе хорошо, а с момента, когда тебе поверили: поверили, что ты жалеешь о том, каков ты, но знают, что тебе нужна помощь. И человек, к которому ты обращаешься со словом: «Прости!» – тебе говорит: «Хорошо, я возьму тебя на свои плечи и помогу исправиться. Но я тебя люблю черненьким, а не только беленьким, люблю таким, каков ты есть, а не ввиду того, что ты, может быть, исправишься».
– На исповеди надо рассказывать грех в общем или подробно говорить о каждом грехе?
– Видишь ли, если грех состоит из одного какого-нибудь проступка, ты можешь сказать просто: «Я сделал то-то». Но если обстоятельства этого греха сами по себе уже плохи, тогда и о них надо сказать. Если ты что-нибудь украл – скажи: «Украл, жалею, не буду больше». Но если для того, чтобы украсть, ты еще вдобавок кого-нибудь обманывал, лгал, подводил,. то всё это надо рассказать, потому что дело не только в краже, а во всей цепи подлостей, которые с ней связаны. Вопрос не в том, чтобы дать спи сок грехов, а в том, чтобы ты мог сказать всё, что относится к этой краже.
И когда исповедуешься, надо называть вещи своими именами, а не так, помягче. Я помню, пришел ко мне на исповедь очень почтенный господин и говорит: «Со мной случалось, что я брал не свое…» Я говорю: «Нет, вы скажите просто – я воровал». – «Помилуйте, вы меня вором называете!?» – «Вы вор и есть, потому что «брать не свое» называется воровством»…
Понимаете, очень легко сказать: «Я беру не свое», «Я не всегда правду говорю», вместо того чтобы сказать: «Я налгал» или «Я привык лгать, когда мне это выгодно». И если ты не можешь этого сказать, значит, ты не очень сожалеешь, а скрашиваешь, просто чтобы прошмыгнуть мимо исповеди. Поэтому надо говорить всё, что относится к греху, что его делает более греховным; надо грехи называть по имени и не надо сознательно скрывать. Если ты на исповеди собирался всё сказать и что-то забыл, если это важная вещь, можно прибавить, но если это пустяк, который ты забыл упомянуть, считай, что ты прощен, потому что ты не собирался обманывать Бога в этом.
– Я обругал кого-то; надо ли говорить, отчего я это сделал?
– Нет; потому что если ты начнешь рассказывать: «Мишка играл со мной в футбол и он сделал то-то, я его предупредил, а он еще раз повторил, я ему сказал, что следующий раз ему достанется, и вот когда он это снова сделал, я его обложил хорошенько…» – знаете, батюшке конца-края не будет, если весь футбольный матч так должен пройти.
Важно то, что ты сделал; причем порой обстоятельства делают твой поступок более противным; а порой, когда начинаешь раскрывать обстоятельства, всё разжижается, потому что «конечно, он виноват, что он это первый сделал, и второй…» И получается, что ты почти чист: если бы тебя не дразнили, ты бы не лягнулся. А на самом деле вопрос только в том, что ты лягнулся; он пусть исповедуется в том, что он тебя злил.
– Существуют определенные правила поведения в церкви. Например, женщина обязательно должна быть с покрытой головой и не должна быть в брюках. Имеет ли это какое-нибудь принципиальное значение? Порой это отталкивает молодежь…
– Это очень трудный для меня вопрос. Это берется из Послания апостола Павла, который говорит, что женщина должна входить в церковь с покрытой головой в знак как бы подчиненности; и в Ветхом Завете написано, что мужчина не должен одеваться в женскую одежду и наоборот. Поэтому штаны на женщине – это мужская одежда, а юбка на мужчине была бы женской (ну, это более редкое явления, я должен сказать).
Но я думаю (и конечно, меня многие здесь съедят за это), что это настолько второстепенно и незначительно, что можно было бы и забыть про это. Скажем, на Западе мы с этим просто не считаемся. Вот параллель: старца Амвросия Оптинского кто-то спросил: Могу ли я молиться сидя или лежа, потому что у меня ноги отнимаются? (В какие-то годы легко стоять, а в какие-то не так уж легко). И Амвросий ответил: Лежи, лежи, Бог тебе в сердце смотрит, а не в ноги, когда ты молишься.
Мне кажется, Бог смотрит в нашу душу. Если ты непокрытая стоишь перед Богом и молишься, Он видит твою молитву, и это лучше, чем если бы ты стояла покрытая и думала: Когда же это всё кончится?! (Был у нас старый прихожанин, который больше любил кабак, чем церковь. Его жена приведет в церковь, он стоит и дергает ее за рукав: Адочка! Адочка! Пойдем домой! Они же никогда не кончат своих поповских парадов!.. Если так стоять – лучше стоять в брюках и с непокрытой головой – и молиться).
Я говорю честно, как я отношусь к этому и что мы делаем на Западе, во всяком случае, вокруг меня. Но я знаю, что здесь это не принято; и я бы держался более или менее того, что принято, просто потому что – зачем же людей смущать? Помню, приезжала лет тридцать пять тому назад в Москву из Франции православная француженка – молодая, страшно элегантная. Пришла в церковь в шляпке, с накрашенными губами, нарумяненная, одета элегантно. Она вступила в церковь, а какая-то старушечка на нее посмотрела и говорит: «Голубушка, нельзя ходить в церковь, одетая, как проститутка. Дай-ка я тебя приведу в порядок». Взяла платок, плюнула и вымыла ей лицо… Если тебе за непокрытую голову достанется такое, я не виноват!
– А это тоже не имеет значения: пришел ты в шапке в церковь или без? То есть можно и в шапке стоять?
– Нет, это нельзя. У нас принято, когда входишь куда-нибудь, в комнату или в храм, снимать шапку в знак почтения к месту. Шапка играет разную роль. Мы говорим о платке. Вот и монах входит в церковь и не снимает клобук или скуфейку, потому что это один из знаков его подчиненности. А шапку мы снимаем, когда молимся, когда входим в комнату или в храм. Но опять-таки, у нас это так, у мусульман и евреев это наоборот; вопрос в том, какой смысл вкладывает данная община – не ты лично, а те люди, к которым ты принадлежишь, в тот или другой внешний знак или поступок.
Помню, я в молодости пошел раз в синагогу, по привычке первым делом снял шапку, и вокруг меня люди ахнули, потому что это был просто неприличный поступок. Если мы придем в православный храм и не снимем шапку, нам скажут: Пожалуйста, снимите, здесь так не принято.
– Считаете ли вы, что рок-музыка – явление сатанинское?
Я не того поколения, которое увлекается рок-музыкой. Я вообще музыкой не увлекаюсь. Мне теперь идет 75-й год, и конечно, немного поздно начинать роком заниматься. Рок мне непонятен. До меня не доходит его смысл, как до меня не доходил джаз, когда я был молод. Но во всякой вещи – будь то классическая музыка, будь то джаз, будь то рок, есть риск, что ты не слушаешь музыку, а пользуешься ею для того, чтобы как бы опьянеть, одурманить себя. Это, конечно, легче сделать при помощи рока, чем Баха или Бетховена. И в этом смысле не только музыка, а всё, что извне на нас влияет, может нас как бы вывести из себя, опьянить. Этого не надо допускать. Надо сохранять в себе трезвость, так как если потеряешь себя – в музыке или в чем бы то ни было – потом себя не найдешь, может быть.
Мусульманские дервиши, например, кружатся, чтобы потерять какую-то долю своего сознания и прийти в транс. Мне кажется (но опять-таки, поскольку я не понимаю рок, мое мнение ни к чему не обязывает), что рок-музыка играет такую роль для очень многих. Я это вижу постоянно. Но в то же время я знаю людей, которые слушают классическую музыку часами и часам только для того, что бы забыться; они не музыку слушает, они стараются забыть свою жизнь, свои трудности и страхи, ждут, чтобы музыка их унесла от их самих. Они не музыку воспринимают, а себя как бы уничтожают. Поэтому будь то музыка или что бы то ни было, что тебя «выводит из себя», надо знать момент, когда пора сказать себе: «Довольно!»
В житиях подвижников 18–19 вв. Поселянина есть рассказ о некоем Алексее Алексеевиче, простом человеке, мещанине из средней России. Он ушел жить в лес, в берлогу, которую сам себе устроил. Он любил природу; и как-то случайный прохожий наблюдал: А.А. вышел, смотрел на закат солнца, долго смотрел, и потом вдруг сказал: Довольно, не дай себе опьянеть этой красотой! – и ушел к себе. Он остановился в момент, когда он уже терял сознание, скажем, своей молитвенности, какой-то трезвости. Он начинал пьянеть от того, что видел, и остановил себя. И мне кажется, что в жизни надо уметь это делать по всей линии: по отношению к еде, музыке, ко всем развлечениям и к серьезным вещам.
Источник:
продолжение следует
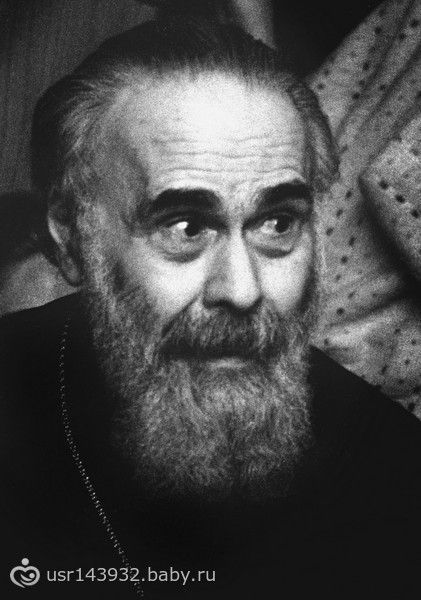
И насчет музыки и других увлечений… Они не должны использоваться для «одурманивания»))Сразу вспомнила слова апостола Павла: всё мне позволительно, но не всё полезно; ничто не должно владеть мною.
Да, очень мудрый ответ и современным молодым людям